Переводим классиков
Автор
wsir1963
, 07 сен 2008 01:26
Сообщений в теме: 55
#21
Отправлено 03 апреля 2009 - 16:41
Robert Browning
Porphyria's Lover
THE rain set early in to-night,
The sullen wind was soon awake,
It tore the elm-tops down for spite,
And did its worst to vex the lake:
I listen'd with heart fit to break.
When glided in Porphyria; straight
She shut the cold out and the storm,
And kneel'd and made the cheerless grate
Blaze up, and all the cottage warm;
Which done, she rose, and from her form
Withdrew the dripping cloak and shawl,
And laid her soil'd gloves by, untied
Her hat and let the damp hair fall,
And, last, she sat down by my side
And call'd me. When no voice replied,
She put my arm about her waist,
And made her smooth white shoulder bare,
And all her yellow hair displaced,
And, stooping, made my cheek lie there,
And spread, o'er all, her yellow hair,
Murmuring how she loved me—she
Too weak, for all her heart's endeavour,
To set its struggling passion free
From pride, and vainer ties dissever,
And give herself to me for ever.
But passion sometimes would prevail,
Nor could to-night's gay feast restrain
A sudden thought of one so pale
For love of her, and all in vain:
So, she was come through wind and rain.
Be sure I look'd up at her eyes
Happy and proud; at last I knew
Porphyria worshipp'd me; surprise
Made my heart swell, and still it grew
While I debated what to do.
That moment she was mine, mine, fair,
Perfectly pure and good: I found
A thing to do, and all her hair
In one long yellow string I wound
Three times her little throat around,
And strangled her. No pain felt she;
I am quite sure she felt no pain.
As a shut bud that holds a bee,
I warily oped her lids: again
Laugh'd the blue eyes without a stain.
And I untighten'd next the tress
About her neck; her cheek once more
Blush'd bright beneath my burning kiss:
I propp'd her head up as before,
Only, this time my shoulder bore
Her head, which droops upon it still:
The smiling rosy little head,
So glad it has its utmost will,
That all it scorn'd at once is fled,
And I, its love, am gain'd instead!
Porphyria's love: she guess'd not how
Her darling one wish would be heard.
And thus we sit together now,
And all night long we have not stirr'd,
And yet God has not said a word!
Любовник Порфирии
Роберт Броунинг
Весь день, всю ночь дождя напев,
И ветра краткий кончен сон,
На вязы он обрушил гнев,
На озере - вод бурных звон,
Таюсь, и в сердце страха стон.
Порфирия скользнула в дом,
И холод, буря прочь ушли;
Присела перед очагом,
И заблестел огонь в пыли,
Перчатки, все в следах земли,
Снимает, мокрый плащ - долой,
Ослабив шляпы ремешок,
Дает кудрям упасть рекой.
Ко мне присела в уголок,
Зовет. Ответить я не смог.
Тогда мою ладонь ведет
Открыв плечо, к груди своей,
И кудри русые вразлет
Спадают по плечам вольней;
К себе прижав сильней, сильней
Меня, бормочет, сколь любим,
Трепещет. Жаль, свободу дать
Не хочешь ты страстям слепым,
Гордыни узел развязать
И навсегда моею стать.
Но нас ведет порою страсть;
Не может праздник превозмочь
Желаний в ней; найти, припасть
Хотела и спешила прочь,
Себе на горе, в дождь и в ночь!
Конечно, счастлив я и горд:
Порфирия покорна мне
Как никогда. Остался тверд -
Окрепла воля в тишине;
Лишь сердце пляшет, все в огне!
В тот день была она моей,
Прекрасна и чиста. С трудом
Приняв решенье, я кудрей
Поток единым свил жгутом,
Вкруг горла обернул узлом
И удавил. Не больно, нет
Ей было - так я ощутил.
Как бы пчелу поймавший цвет,
Бутон, я веки ей раскрыл:
Все тот же взор, и тот же пыл!
Затем волос ослабил прядь
На шее; все тепла щека,
Которую стал целовать,
И голова её легка,
И ей сейчас моя рука
Опорой; не постылый груз!
Как розы, все цветут уста.
Ты рада? Вечен наш союз,
Нет горя, зла - лишь красота,
Любовника сбылась мечта,
И мы с Порфирией вдвоем.
Ты не узнаешь: темный вал
Желаний в сердце спал моем...
Так вместе встретили рассвет.
Бог промолчал, и кары нет!
перевод: Ермаков Эдуард Юрьевич
Porphyria's Lover
THE rain set early in to-night,
The sullen wind was soon awake,
It tore the elm-tops down for spite,
And did its worst to vex the lake:
I listen'd with heart fit to break.
When glided in Porphyria; straight
She shut the cold out and the storm,
And kneel'd and made the cheerless grate
Blaze up, and all the cottage warm;
Which done, she rose, and from her form
Withdrew the dripping cloak and shawl,
And laid her soil'd gloves by, untied
Her hat and let the damp hair fall,
And, last, she sat down by my side
And call'd me. When no voice replied,
She put my arm about her waist,
And made her smooth white shoulder bare,
And all her yellow hair displaced,
And, stooping, made my cheek lie there,
And spread, o'er all, her yellow hair,
Murmuring how she loved me—she
Too weak, for all her heart's endeavour,
To set its struggling passion free
From pride, and vainer ties dissever,
And give herself to me for ever.
But passion sometimes would prevail,
Nor could to-night's gay feast restrain
A sudden thought of one so pale
For love of her, and all in vain:
So, she was come through wind and rain.
Be sure I look'd up at her eyes
Happy and proud; at last I knew
Porphyria worshipp'd me; surprise
Made my heart swell, and still it grew
While I debated what to do.
That moment she was mine, mine, fair,
Perfectly pure and good: I found
A thing to do, and all her hair
In one long yellow string I wound
Three times her little throat around,
And strangled her. No pain felt she;
I am quite sure she felt no pain.
As a shut bud that holds a bee,
I warily oped her lids: again
Laugh'd the blue eyes without a stain.
And I untighten'd next the tress
About her neck; her cheek once more
Blush'd bright beneath my burning kiss:
I propp'd her head up as before,
Only, this time my shoulder bore
Her head, which droops upon it still:
The smiling rosy little head,
So glad it has its utmost will,
That all it scorn'd at once is fled,
And I, its love, am gain'd instead!
Porphyria's love: she guess'd not how
Her darling one wish would be heard.
And thus we sit together now,
And all night long we have not stirr'd,
And yet God has not said a word!
Любовник Порфирии
Роберт Броунинг
Весь день, всю ночь дождя напев,
И ветра краткий кончен сон,
На вязы он обрушил гнев,
На озере - вод бурных звон,
Таюсь, и в сердце страха стон.
Порфирия скользнула в дом,
И холод, буря прочь ушли;
Присела перед очагом,
И заблестел огонь в пыли,
Перчатки, все в следах земли,
Снимает, мокрый плащ - долой,
Ослабив шляпы ремешок,
Дает кудрям упасть рекой.
Ко мне присела в уголок,
Зовет. Ответить я не смог.
Тогда мою ладонь ведет
Открыв плечо, к груди своей,
И кудри русые вразлет
Спадают по плечам вольней;
К себе прижав сильней, сильней
Меня, бормочет, сколь любим,
Трепещет. Жаль, свободу дать
Не хочешь ты страстям слепым,
Гордыни узел развязать
И навсегда моею стать.
Но нас ведет порою страсть;
Не может праздник превозмочь
Желаний в ней; найти, припасть
Хотела и спешила прочь,
Себе на горе, в дождь и в ночь!
Конечно, счастлив я и горд:
Порфирия покорна мне
Как никогда. Остался тверд -
Окрепла воля в тишине;
Лишь сердце пляшет, все в огне!
В тот день была она моей,
Прекрасна и чиста. С трудом
Приняв решенье, я кудрей
Поток единым свил жгутом,
Вкруг горла обернул узлом
И удавил. Не больно, нет
Ей было - так я ощутил.
Как бы пчелу поймавший цвет,
Бутон, я веки ей раскрыл:
Все тот же взор, и тот же пыл!
Затем волос ослабил прядь
На шее; все тепла щека,
Которую стал целовать,
И голова её легка,
И ей сейчас моя рука
Опорой; не постылый груз!
Как розы, все цветут уста.
Ты рада? Вечен наш союз,
Нет горя, зла - лишь красота,
Любовника сбылась мечта,
И мы с Порфирией вдвоем.
Ты не узнаешь: темный вал
Желаний в сердце спал моем...
Так вместе встретили рассвет.
Бог промолчал, и кары нет!
перевод: Ермаков Эдуард Юрьевич
#22
Отправлено 03 апреля 2009 - 16:43
Robert Browning ...........................................Роберт Браунинг
Porphyria's Lover .........................................Любовник Порфирии
The rain set early in to-night, ........................... Я слышал: ливень в ночь шагнул.
The sullen wind was soon awake, ........................... Свирепый ветер, словно тигр,
It tore the elm-tops down for spite, ...................... Верхушки вязов лапой гнул
And did its worst to vex the lake: ........................ И с рёвом озеро мутил –
I listen'd with heart fit to break. ....................... И сердце лопалось в груди.
When glided in Porphyria; straight ........................ Но Порфирия в дом вплыла,
She shut the cold out and the storm, ...................... Закрыла ставни: «Буря – вон!»,
And kneel'd and made the cheerless grate .................. Огонь в камине разожгла,
Blaze up, and all the cottage warm; ....................... Чтобы тепла волной живой
Which done, she rose, and from her form ................... Омыло дом. Вой, буря, вой!
Withdrew the dripping cloak and shawl, .................... Промокший плащ и шаль – на крюк,
And laid her soil'd gloves by, untied ..................... Перчатки – прочь, и шляпу тож,
Her hat and let the damp hair fall, ....................... Пролился между ея рук
And, last, she sat down by my side ........................ Златых волос искристый дождь –
And call'd me. When no voice replied, ..................... И вот она уж рядом. Дрожь
She put my arm about her waist, ........................... Я скрыть сумел и промолчал
And made her smooth white shoulder bare, .................. В ответ на зов её. Тогда
And all her yellow hair displaced, ........................ Гладь белоснежного плеча
And, stooping, made my cheek lie there, ................... Легла под щёку мне. «Отдам, -
And spread, o'er all, her yellow hair, .................... Она шепнула, - навсегда
Murmuring how she loved me — she .......................... Себя во власть твою. Одна
Too weak, for all her heart's endeavour, .................. Я погибаю, как в пустыне:
To set its struggling passion free ........................ Нет сил отчаянье прогнать
From pride, and vainer ties dissever, ..................... И страсть, незнамую доныне,
And give herself to me for ever. .......................... Освободить от пут гордыни.»
But passion sometimes would prevail, ...................... Но всё же страсть была сильна:
Nor could to-night's gay feast restrain ................... Гонима мыслью обо мне
A sudden thought of one so pale ........................... Лишь для неё, - хоть и луна,
For love of her, and all in vain: ......................... И мрак, и дождь твердили «Нет!» -
So, she was come through wind and rain. ................... Она пришла. Всё как в огне.
Be sure I look'd up at her eyes ........................... Да, я не преминул взглянуть
Happy and proud; at last I knew ........................... В её глаза – глаза рабы.
Porphyria worshipp'd me; surprise ......................... Тараном сердце било в грудь
Made my heart swell, and still it grew .................... И поднималось на дыбы,
While I debated what to do. ............................... Пока я думал, как мне быть.
That moment she was mine, mine, fair, ..................... В тот миг она была моя –
Perfectly pure and good: I found .......................... Свежа, чиста. Я протянул
A thing to do, and all her hair ........................... Ладонь – и, волосы ея
In one long yellow string I wound ......................... Собравши в длинную струну,
Three times her little throat around, ..................... Вкруг тонкой шеи обернул
And strangled her. No pain felt she; ...................... И задушил. Всё! Умерла
I am quite sure she felt no pain. ......................... Она с улыбкой на устах.
As a shut bud that holds a bee, ........................... Как хрупкой бабочки крыла,
I warily oped her lids: again ............................. Я поднял веки ей. А там –
Laugh'd the blue eyes without a stain. .................... Всё та же синь и чистота.
And I untighten'd next the tress .......................... Я распустил удавку вкруг
About her neck; her cheek once more ....................... Прелестной шеи. Нежных щёк
Blush'd bright beneath my burning kiss: ................... Губами я коснулся вдруг –
I propp'd her head up as before, .......................... И прежний в них огонь зажёг.
Only, this time my shoulder bore .......................... Благоухающий цветок,
Her head, which droops upon it still: ..................... Её головка на плечо
The smiling rosy little head, ............................. Моё легла. И лик – сиял,
So glad it has its utmost will, ........................... Ибо свершилось то, о чём
That all it scorn'd at once is fled, ...................... Мечталось: муки бытия
And I, its love, am gain'd instead! ....................... Ушли. И ей достался я.
Porphyria's love: she guess'd not how ..................... О, Порфирия! Вряд ли ты
Her darling one wish would be heard. ...................... Предвидела такой конец
And thus we sit together now, ............................. Своей игры. Вдвоём, застыв,
And all night long we have not stirr'd, ................... Мы пребывали в тишине.
And yet God has not said a word! .......................... Бог видел всё. И Бог был нем.
Porphyria's Lover .........................................Любовник Порфирии
The rain set early in to-night, ........................... Я слышал: ливень в ночь шагнул.
The sullen wind was soon awake, ........................... Свирепый ветер, словно тигр,
It tore the elm-tops down for spite, ...................... Верхушки вязов лапой гнул
And did its worst to vex the lake: ........................ И с рёвом озеро мутил –
I listen'd with heart fit to break. ....................... И сердце лопалось в груди.
When glided in Porphyria; straight ........................ Но Порфирия в дом вплыла,
She shut the cold out and the storm, ...................... Закрыла ставни: «Буря – вон!»,
And kneel'd and made the cheerless grate .................. Огонь в камине разожгла,
Blaze up, and all the cottage warm; ....................... Чтобы тепла волной живой
Which done, she rose, and from her form ................... Омыло дом. Вой, буря, вой!
Withdrew the dripping cloak and shawl, .................... Промокший плащ и шаль – на крюк,
And laid her soil'd gloves by, untied ..................... Перчатки – прочь, и шляпу тож,
Her hat and let the damp hair fall, ....................... Пролился между ея рук
And, last, she sat down by my side ........................ Златых волос искристый дождь –
And call'd me. When no voice replied, ..................... И вот она уж рядом. Дрожь
She put my arm about her waist, ........................... Я скрыть сумел и промолчал
And made her smooth white shoulder bare, .................. В ответ на зов её. Тогда
And all her yellow hair displaced, ........................ Гладь белоснежного плеча
And, stooping, made my cheek lie there, ................... Легла под щёку мне. «Отдам, -
And spread, o'er all, her yellow hair, .................... Она шепнула, - навсегда
Murmuring how she loved me — she .......................... Себя во власть твою. Одна
Too weak, for all her heart's endeavour, .................. Я погибаю, как в пустыне:
To set its struggling passion free ........................ Нет сил отчаянье прогнать
From pride, and vainer ties dissever, ..................... И страсть, незнамую доныне,
And give herself to me for ever. .......................... Освободить от пут гордыни.»
But passion sometimes would prevail, ...................... Но всё же страсть была сильна:
Nor could to-night's gay feast restrain ................... Гонима мыслью обо мне
A sudden thought of one so pale ........................... Лишь для неё, - хоть и луна,
For love of her, and all in vain: ......................... И мрак, и дождь твердили «Нет!» -
So, she was come through wind and rain. ................... Она пришла. Всё как в огне.
Be sure I look'd up at her eyes ........................... Да, я не преминул взглянуть
Happy and proud; at last I knew ........................... В её глаза – глаза рабы.
Porphyria worshipp'd me; surprise ......................... Тараном сердце било в грудь
Made my heart swell, and still it grew .................... И поднималось на дыбы,
While I debated what to do. ............................... Пока я думал, как мне быть.
That moment she was mine, mine, fair, ..................... В тот миг она была моя –
Perfectly pure and good: I found .......................... Свежа, чиста. Я протянул
A thing to do, and all her hair ........................... Ладонь – и, волосы ея
In one long yellow string I wound ......................... Собравши в длинную струну,
Three times her little throat around, ..................... Вкруг тонкой шеи обернул
And strangled her. No pain felt she; ...................... И задушил. Всё! Умерла
I am quite sure she felt no pain. ......................... Она с улыбкой на устах.
As a shut bud that holds a bee, ........................... Как хрупкой бабочки крыла,
I warily oped her lids: again ............................. Я поднял веки ей. А там –
Laugh'd the blue eyes without a stain. .................... Всё та же синь и чистота.
And I untighten'd next the tress .......................... Я распустил удавку вкруг
About her neck; her cheek once more ....................... Прелестной шеи. Нежных щёк
Blush'd bright beneath my burning kiss: ................... Губами я коснулся вдруг –
I propp'd her head up as before, .......................... И прежний в них огонь зажёг.
Only, this time my shoulder bore .......................... Благоухающий цветок,
Her head, which droops upon it still: ..................... Её головка на плечо
The smiling rosy little head, ............................. Моё легла. И лик – сиял,
So glad it has its utmost will, ........................... Ибо свершилось то, о чём
That all it scorn'd at once is fled, ...................... Мечталось: муки бытия
And I, its love, am gain'd instead! ....................... Ушли. И ей достался я.
Porphyria's love: she guess'd not how ..................... О, Порфирия! Вряд ли ты
Her darling one wish would be heard. ...................... Предвидела такой конец
And thus we sit together now, ............................. Своей игры. Вдвоём, застыв,
And all night long we have not stirr'd, ................... Мы пребывали в тишине.
And yet God has not said a word! .......................... Бог видел всё. И Бог был нем.
#23
Отправлено 04 апреля 2009 - 04:06
Красивый и страшный рассказ и такое же стихотворение.
А чей это последний перевод?
Кстати, я давным-давно сделала перевод ( вроде как поэтический) про киску, но получилось что-то не то, вроде как не детское какое-то стихотворение.. В общем так и осталось..
А чей это последний перевод?
Кстати, я давным-давно сделала перевод ( вроде как поэтический) про киску, но получилось что-то не то, вроде как не детское какое-то стихотворение.. В общем так и осталось..
Oportet vivere
#24
Отправлено 04 апреля 2009 - 23:18
 Селенка (4.4.2009, 3:06) писал:
Селенка (4.4.2009, 3:06) писал:
Красивый и страшный рассказ и такое же стихотворение.
А чей это последний перевод?
Кстати, я давным-давно сделала перевод ( вроде как поэтический) про киску, но получилось что-то не то, вроде как не детское какое-то стихотворение.. В общем так и осталось..
А чей это последний перевод?
Кстати, я давным-давно сделала перевод ( вроде как поэтический) про киску, но получилось что-то не то, вроде как не детское какое-то стихотворение.. В общем так и осталось..
http://robert-myname....com/17011.html
Лена,что значит не получилось! Тащи его сюда,пусть будет и не детское.
#25
Отправлено 04 апреля 2009 - 23:37
Robert Browning
ANY WIFE TO ANY HUSBAND
My love, this is the bitterest, that thou —
Who art all truth, and who dost love me now
As thine eyes say, as thy voice breaks to say —
Shouldst love so truly, and couldst love me still
A whole long life through, had but love its will,
Would death that leads me from thee brook delay.
I have but to be by thee, and thy hand
Will never let mine go, nor heart withstand
The beating of my heart to reach its place.
When shall I look for thee and feel thee gone?
When cry for the old comfort and find none?
Never, I know! Thy soul is in thy face.
Oh, I should fade — ’tis willed so! Might I save,
Gladly I would, whatever beauty gave
Joy to thy sense, for that was precious too.
It is not to be granted. But the soul
Whence the love comes, all ravage leaves that whole;
Vainly the flesh fades; soul makes all things new.
It would not be because my eye grew dim
Thou couldst not find the love there, thanks to Him
Who never is dishonoured in the spark
He gave us from his fire of fires, and bade
Remember whence it sprang, nor be afraid
While that burns on, though all the rest grow dark.
So, how thou wouldst be perfect, white and clean
Outside as inside, soul and soul’s demesne
Alike, this body given to show it by!
Oh, three-parts through the worst of life’s abyss,
What plaudits from the next world after this,
Couldst thou repeat a stroke and gain the sky!
And is it not the bitterer to think
That, disengage our hands and thou wilt sink
Although thy love was love in very deed?
I know that nature! Pass a festive day,
Thou dost not throw its relic-flower away
Nor bid its music’s loitering echo speed.
Thou let’st the stranger’s glove lie where it fell;
If old things remain old things all is well,
For thou art grateful as becomes man best
And hadst thou only heard me play one tune,
Or viewed me from a window, not so soon
With thee would such things fade as with the rest.
I seem to see! We meet and part; ‘tis brief;
The book I opened keeps a folded leaf,
The very chair I sat on, breaks the rank
That is a portrait of me on the wall —
Three lines, my face comes at so slight a call:
And for all this, one little hour to thank!
But now, because the hour through years was fixed,
Because our inmost beings met and mixed,
Because thou once hast loved me — wilt thou dare
Say to thy soul and Who may list beside,
“Therefore she is immortally my bride;
Chance cannot change my love, nor time impair.
So, what if in the dusk of life that’s left,
I, a tired traveller of my sun bereft,
Look from my path when, mimicking the same,
The fire-fly glimpses past me, come and gone?
— Where was it till the sunset? where anon
It will be at the sunrise! What’s to blame?”
Is it so helpful to thee? Canst thou take
The mimic up, nor, for the true thing’s sake,
Put gently by such efforts at a beam?
Is the remainder of the way so long,
Thou need’st the little solace, thou the strong
Watch out thy watch, let weak ones doze and dream!
— Ah, but the fresher faces! “Is it true”,
Thou’lt ask, “some eyes are beautiful and new?
“Some hair, — how can one choose but grasp such wealth?
“And if a man would press his lips to lips
Fresh as the wilding hedge-rose-cup there slips
The dew-drop out of, must it be by stealth?
It cannot change the love still kept for Her,
More than if such a picture I prefer
Passing a day with, to a room’s bare side:
The painted form takes nothing she possessed,
Yet, while the Titian’s Venus lies at rest,
A man looks. Once more, what is there to chide?”
So must I see, from where I sit and watch,
My own self sell myself, my hand attach
Its warrant to the very thefts from me —
Thy singleness of soul that made me proud,
Thy purity of heart I loved aloud,
Thy man’s-truth I was bold to bid God see!
Love so, then, if thou wilt! Give all thou canst
Away to the new faces — disentranced,
(Say it and think it) obdurate no more:
Re-issue looks and words from the old mint,
Pass them afresh, no matter whose the print
Image and superscription once they bore.
Re-coin thyself and give it them to spend, —
It all comes to the same thing at the end,
Since mine thou wast, mine art and mine shalt be,
Faithful or faithless, scaling up the sum
Or lavish of my treasure, thou must come
Back to the heart’s place here I keep for thee!
Only, why should it be with stain at all?
Why must I, ‘twixt the leaves of coronal,
Put any kiss of pardon on thy brow?
Why need the other women know so much,
And talk together, “Such the look and such
“The smile he used to love with, then as now!”
Might I die last and show thee! Should I find
Such hardship in the few years left behind,
If free to take and light my lamp, and go
Into thy tomb, and shut the door and sit,
Seeing thy face on those four sides of it
The better that they are so blank, I know!
Why, time was what I wanted, to turn o’er
Within my mind each look, get more and more
By heart each word, too much to learn at first;
And join thee all the fitter for the pause
‘Neath the low doorway’s lintel. That were cause
For lingering, though thou calledst, if I durst!
And yet thou art the nobler of us two
What dare I dream of, that thou canst not do,
Outstripping my ten small steps with one stride?
I’ll say then, here’s a trial and a task —
Is it to bear? — if easy, I’ll not ask:
Though love fail, I can trust on in thy pride.
Pride? — when those eyes forestall the life behind
The death I have to go through! — when I find,
Now that I want thy help most, all of thee!
What did I fear? Thy love shall hold me fast
Until the little minute’s sleep is past
And I wake saved. — And yet it will not be!
Роберт Браунинг
ЛЮБАЯ ЖЕНА — ЛЮБОМУ МУЖУ
Вот что ужасно, вот что нестерпимо:
Тобою, друг, я искренне любима,
Твой голос не лукавит, взгляд не лжёт.
Любимой долгий век бы оставалась,
Когда бы смерть любви повиновалась.
Когда б ко мне отсрочила приход.
Пока я здесь, меня ты не оставишь,
Рука в руке, мой каждый шаг направишь,
Биенью сердца вторит сердца стук,
Взгляну — и ты ответишь сразу взглядом,
Окликну — ты немедля встанешь рядом,
В тебе всё правда, всё любовь, мой друг.
С годами я состарилась бы, милый.
Могла бы — красоту бы сохранила,
Чтоб радовать тебя и услаждать —
Ведь это счастье! Но стареет тело...
Ну что ж, душе до этого нет дела,
Ей даже плоть дано преображать.
Блеск юных глаз померкнет, замутится,
Но будет в них любовь, как встарь, светиться —
Нам эту искру уделил Творец
От вечного огня, дабы встречали
Мы смертный мрак без страха и печали,
Храня ту искру в глубине сердец.
Неужто же благое одобренье
Заслужишь ты, решась на повторенье
Того, что было в юности твоей?
Останешься ль душою снежно-белым,
Когда в нечистоте погрязнешь телом —
Жилищем, что под стать должно быть ей?
Вот почему нет нестерпимей муки,
Чем понимать — едва разнимем руки,
Ты, любящий не только на словах,
Падёшь... О да, я повторяю снова:
Ты благодарен музыке былого,
Цветок — мой дар — ты не затопчешь в прах,
Легко чужой пренебрежёшь перчаткой,
Меня не станешь предавать украдкой —
Из лучших лучший, незабывчив ты;
Моё лицо в окне из-за завесы,
На фортепьянах сыгранные пьесы,
Всё помнишь, все мельчайшие черты.
Отпущены нам считанные миги.
Ещё заложена страница в книге,
И кресло не придвинуто к стене,
И мой портрет — он оживёт покорно,
Лишь позови... Ты памятлив, бесспорно,
Но лишь на срок, что здесь назначен мне.
Да, этот срок был предрешён судьбою,
Да, прожили мы счастливо с тобою,
Да, ты меня любил и оттого
Себя уговоришь: “Она пребудет
Моей навек, и время не остудит,
Не переменит сердца моего.
И если, одинокий и унылый,
Теперь, когда зашло моё светило,
Я на фонарик светлячка взгляну —
Фонарик, до заката неприметный,
Чей луч бледнеет на заре рассветной, —
Кто этот взгляд поставит мне в вину?”
А что в нём проку, в светляке убогом?
Утешишься ль на склоне лет подлогом,
Ты, знавший солнце истинной любви?
Твой дух возвышен, и тебе не надо
Того, что слабодушному отрада,
Пустого сновиденья не зови.
Но свежесть юных лиц!.. “Вчера я встретил
Девичий взор, он так призывно светел,
А шёлк волос — прильнуть бы к ним щекой!
Так неужели, губы прижимая
К губам — бутонам росной розы мая, —
Впадаю в грех? Пусть скажут мне, в какой?
Как встарь, любовь к Единственной едина,
И в том беды не вижу, что картина
Немного скрасит наготу стены.
Любуются Венерой Тициана
Глаза мужчин, но в этом нет обмана,
Измены нет, а значит, и вины”.
Невидимой, мне предстоит увидеть:
Моё второе “я” спешит обидеть,
Спешит ограбить и предать меня.
Я, дерзкая, твердила: “Бог свидетель,
Ты целокупен, твёрд, как добродетель,
Мужская верность — вот твоя броня”.
Ошиблась я. Гляди ж в чужие лица,
Внуши себе — пришла пора забыться,
И, удостоив прошлое слезой,
Пусти слова и вздохи в обращенье,
Не помня, чьё на них изображенье
И чьей распоряжаешься казной.
Перечекань себя, ты это можешь,
Но сущности своей не уничтожишь,
А ею только мне владеть дано.
Клад промотай и не сдержи обета,
Ты всё равно вернёшься в сердце это,
Твоя обитель в вечности оно.
Да, но зачем такое помраченье,
Чтоб мне пришлось дарить тебе прощенье,
Целуя в лоб меж лаврами венца?
Как много будет женских разговоров:
“От той не отрывал когда-то взоров,
Теперь на эту смотрит без конца...”
Умри ты первый, увидал тогда бы
Совсем другое: я рукою слабой
Фонарь зажгла бы, выйдя на крыльцо,
Закрыла б дверь гробницы за собою —
Мне стены будут милы наготою,
На них я воскрешу твоё лицо.
Досуг мне нужен до желанной встречи:
Все взгляды вспомню, воскрешу все речи —
Сперва казалось, нет на это сил...
Чтоб лучше приготовиться к свиданью,
Платить готова промедленья данью,
Хотя ты звал, за мною приходил...
Нет, всё не так. Меня ты благородней.
О чём я и мечтать боюсь сегодня,
Во что сомненье верить не велит,
То сбудется. И пусть искус немалый,
Но я о малом бы и не мечтала.
Любовь изменит, гордость устоит!
Всего лишь гордость? Близок час разлуки,
Свет жизни гаснет, замирают звуки,
И ты мне нужен весь, чтоб страх избыть...
Чего боюсь? Со мной ты, неизменный,
Пока не пробужусь от жизни бренной,
Спасённая... Но этому не быть!
Перевод Эльги Линецкой
ANY WIFE TO ANY HUSBAND
My love, this is the bitterest, that thou —
Who art all truth, and who dost love me now
As thine eyes say, as thy voice breaks to say —
Shouldst love so truly, and couldst love me still
A whole long life through, had but love its will,
Would death that leads me from thee brook delay.
I have but to be by thee, and thy hand
Will never let mine go, nor heart withstand
The beating of my heart to reach its place.
When shall I look for thee and feel thee gone?
When cry for the old comfort and find none?
Never, I know! Thy soul is in thy face.
Oh, I should fade — ’tis willed so! Might I save,
Gladly I would, whatever beauty gave
Joy to thy sense, for that was precious too.
It is not to be granted. But the soul
Whence the love comes, all ravage leaves that whole;
Vainly the flesh fades; soul makes all things new.
It would not be because my eye grew dim
Thou couldst not find the love there, thanks to Him
Who never is dishonoured in the spark
He gave us from his fire of fires, and bade
Remember whence it sprang, nor be afraid
While that burns on, though all the rest grow dark.
So, how thou wouldst be perfect, white and clean
Outside as inside, soul and soul’s demesne
Alike, this body given to show it by!
Oh, three-parts through the worst of life’s abyss,
What plaudits from the next world after this,
Couldst thou repeat a stroke and gain the sky!
And is it not the bitterer to think
That, disengage our hands and thou wilt sink
Although thy love was love in very deed?
I know that nature! Pass a festive day,
Thou dost not throw its relic-flower away
Nor bid its music’s loitering echo speed.
Thou let’st the stranger’s glove lie where it fell;
If old things remain old things all is well,
For thou art grateful as becomes man best
And hadst thou only heard me play one tune,
Or viewed me from a window, not so soon
With thee would such things fade as with the rest.
I seem to see! We meet and part; ‘tis brief;
The book I opened keeps a folded leaf,
The very chair I sat on, breaks the rank
That is a portrait of me on the wall —
Three lines, my face comes at so slight a call:
And for all this, one little hour to thank!
But now, because the hour through years was fixed,
Because our inmost beings met and mixed,
Because thou once hast loved me — wilt thou dare
Say to thy soul and Who may list beside,
“Therefore she is immortally my bride;
Chance cannot change my love, nor time impair.
So, what if in the dusk of life that’s left,
I, a tired traveller of my sun bereft,
Look from my path when, mimicking the same,
The fire-fly glimpses past me, come and gone?
— Where was it till the sunset? where anon
It will be at the sunrise! What’s to blame?”
Is it so helpful to thee? Canst thou take
The mimic up, nor, for the true thing’s sake,
Put gently by such efforts at a beam?
Is the remainder of the way so long,
Thou need’st the little solace, thou the strong
Watch out thy watch, let weak ones doze and dream!
— Ah, but the fresher faces! “Is it true”,
Thou’lt ask, “some eyes are beautiful and new?
“Some hair, — how can one choose but grasp such wealth?
“And if a man would press his lips to lips
Fresh as the wilding hedge-rose-cup there slips
The dew-drop out of, must it be by stealth?
It cannot change the love still kept for Her,
More than if such a picture I prefer
Passing a day with, to a room’s bare side:
The painted form takes nothing she possessed,
Yet, while the Titian’s Venus lies at rest,
A man looks. Once more, what is there to chide?”
So must I see, from where I sit and watch,
My own self sell myself, my hand attach
Its warrant to the very thefts from me —
Thy singleness of soul that made me proud,
Thy purity of heart I loved aloud,
Thy man’s-truth I was bold to bid God see!
Love so, then, if thou wilt! Give all thou canst
Away to the new faces — disentranced,
(Say it and think it) obdurate no more:
Re-issue looks and words from the old mint,
Pass them afresh, no matter whose the print
Image and superscription once they bore.
Re-coin thyself and give it them to spend, —
It all comes to the same thing at the end,
Since mine thou wast, mine art and mine shalt be,
Faithful or faithless, scaling up the sum
Or lavish of my treasure, thou must come
Back to the heart’s place here I keep for thee!
Only, why should it be with stain at all?
Why must I, ‘twixt the leaves of coronal,
Put any kiss of pardon on thy brow?
Why need the other women know so much,
And talk together, “Such the look and such
“The smile he used to love with, then as now!”
Might I die last and show thee! Should I find
Such hardship in the few years left behind,
If free to take and light my lamp, and go
Into thy tomb, and shut the door and sit,
Seeing thy face on those four sides of it
The better that they are so blank, I know!
Why, time was what I wanted, to turn o’er
Within my mind each look, get more and more
By heart each word, too much to learn at first;
And join thee all the fitter for the pause
‘Neath the low doorway’s lintel. That were cause
For lingering, though thou calledst, if I durst!
And yet thou art the nobler of us two
What dare I dream of, that thou canst not do,
Outstripping my ten small steps with one stride?
I’ll say then, here’s a trial and a task —
Is it to bear? — if easy, I’ll not ask:
Though love fail, I can trust on in thy pride.
Pride? — when those eyes forestall the life behind
The death I have to go through! — when I find,
Now that I want thy help most, all of thee!
What did I fear? Thy love shall hold me fast
Until the little minute’s sleep is past
And I wake saved. — And yet it will not be!
Роберт Браунинг
ЛЮБАЯ ЖЕНА — ЛЮБОМУ МУЖУ
Вот что ужасно, вот что нестерпимо:
Тобою, друг, я искренне любима,
Твой голос не лукавит, взгляд не лжёт.
Любимой долгий век бы оставалась,
Когда бы смерть любви повиновалась.
Когда б ко мне отсрочила приход.
Пока я здесь, меня ты не оставишь,
Рука в руке, мой каждый шаг направишь,
Биенью сердца вторит сердца стук,
Взгляну — и ты ответишь сразу взглядом,
Окликну — ты немедля встанешь рядом,
В тебе всё правда, всё любовь, мой друг.
С годами я состарилась бы, милый.
Могла бы — красоту бы сохранила,
Чтоб радовать тебя и услаждать —
Ведь это счастье! Но стареет тело...
Ну что ж, душе до этого нет дела,
Ей даже плоть дано преображать.
Блеск юных глаз померкнет, замутится,
Но будет в них любовь, как встарь, светиться —
Нам эту искру уделил Творец
От вечного огня, дабы встречали
Мы смертный мрак без страха и печали,
Храня ту искру в глубине сердец.
Неужто же благое одобренье
Заслужишь ты, решась на повторенье
Того, что было в юности твоей?
Останешься ль душою снежно-белым,
Когда в нечистоте погрязнешь телом —
Жилищем, что под стать должно быть ей?
Вот почему нет нестерпимей муки,
Чем понимать — едва разнимем руки,
Ты, любящий не только на словах,
Падёшь... О да, я повторяю снова:
Ты благодарен музыке былого,
Цветок — мой дар — ты не затопчешь в прах,
Легко чужой пренебрежёшь перчаткой,
Меня не станешь предавать украдкой —
Из лучших лучший, незабывчив ты;
Моё лицо в окне из-за завесы,
На фортепьянах сыгранные пьесы,
Всё помнишь, все мельчайшие черты.
Отпущены нам считанные миги.
Ещё заложена страница в книге,
И кресло не придвинуто к стене,
И мой портрет — он оживёт покорно,
Лишь позови... Ты памятлив, бесспорно,
Но лишь на срок, что здесь назначен мне.
Да, этот срок был предрешён судьбою,
Да, прожили мы счастливо с тобою,
Да, ты меня любил и оттого
Себя уговоришь: “Она пребудет
Моей навек, и время не остудит,
Не переменит сердца моего.
И если, одинокий и унылый,
Теперь, когда зашло моё светило,
Я на фонарик светлячка взгляну —
Фонарик, до заката неприметный,
Чей луч бледнеет на заре рассветной, —
Кто этот взгляд поставит мне в вину?”
А что в нём проку, в светляке убогом?
Утешишься ль на склоне лет подлогом,
Ты, знавший солнце истинной любви?
Твой дух возвышен, и тебе не надо
Того, что слабодушному отрада,
Пустого сновиденья не зови.
Но свежесть юных лиц!.. “Вчера я встретил
Девичий взор, он так призывно светел,
А шёлк волос — прильнуть бы к ним щекой!
Так неужели, губы прижимая
К губам — бутонам росной розы мая, —
Впадаю в грех? Пусть скажут мне, в какой?
Как встарь, любовь к Единственной едина,
И в том беды не вижу, что картина
Немного скрасит наготу стены.
Любуются Венерой Тициана
Глаза мужчин, но в этом нет обмана,
Измены нет, а значит, и вины”.
Невидимой, мне предстоит увидеть:
Моё второе “я” спешит обидеть,
Спешит ограбить и предать меня.
Я, дерзкая, твердила: “Бог свидетель,
Ты целокупен, твёрд, как добродетель,
Мужская верность — вот твоя броня”.
Ошиблась я. Гляди ж в чужие лица,
Внуши себе — пришла пора забыться,
И, удостоив прошлое слезой,
Пусти слова и вздохи в обращенье,
Не помня, чьё на них изображенье
И чьей распоряжаешься казной.
Перечекань себя, ты это можешь,
Но сущности своей не уничтожишь,
А ею только мне владеть дано.
Клад промотай и не сдержи обета,
Ты всё равно вернёшься в сердце это,
Твоя обитель в вечности оно.
Да, но зачем такое помраченье,
Чтоб мне пришлось дарить тебе прощенье,
Целуя в лоб меж лаврами венца?
Как много будет женских разговоров:
“От той не отрывал когда-то взоров,
Теперь на эту смотрит без конца...”
Умри ты первый, увидал тогда бы
Совсем другое: я рукою слабой
Фонарь зажгла бы, выйдя на крыльцо,
Закрыла б дверь гробницы за собою —
Мне стены будут милы наготою,
На них я воскрешу твоё лицо.
Досуг мне нужен до желанной встречи:
Все взгляды вспомню, воскрешу все речи —
Сперва казалось, нет на это сил...
Чтоб лучше приготовиться к свиданью,
Платить готова промедленья данью,
Хотя ты звал, за мною приходил...
Нет, всё не так. Меня ты благородней.
О чём я и мечтать боюсь сегодня,
Во что сомненье верить не велит,
То сбудется. И пусть искус немалый,
Но я о малом бы и не мечтала.
Любовь изменит, гордость устоит!
Всего лишь гордость? Близок час разлуки,
Свет жизни гаснет, замирают звуки,
И ты мне нужен весь, чтоб страх избыть...
Чего боюсь? Со мной ты, неизменный,
Пока не пробужусь от жизни бренной,
Спасённая... Но этому не быть!
Перевод Эльги Линецкой
#26
Отправлено 04 апреля 2009 - 23:43
#27
Отправлено 04 апреля 2009 - 23:54
Роберт Браунинг
(Robert Browning, 1812-1889) родился в семьесостоятельного банковского служащего и смог с юности посвятить себя
искусству. Его поэзия не сразу завоевала признание. Ранние романтические
поэмы Браунинга "Паулина" (Pauline, 1833), "Парацельс" (Paracelsus, 1835) и
"Сорделло" (Sordello, 1840), изданные на средства самого автора, остались
почти незамеченными.
Молодой поэт пытался подражать Шелли (память которого почтил позднее в
стихотворении "Memorabilia"). В первой своей поэме он объявил себя
"приверженцем свободы". Но традиции революционного романтизма Шелли
воспринимались Браунингом крайне ограниченно, в духе абстрактного
буржуазного гуманизма. Свобода для него - это прежде всего внутренняя
духовная свобода отдельной личности. Отсюда - характерный для Браунинга
острый и напряженный интерес к индивидуальным субъективным
морально-психологическим душевным конфликтам, обособленным от объективного
развития истории; отсюда и преобладание в его творчестве того жанра,
которому сам он дал название "интроспективной драмы".
Характеры его героев раскрываются чаще всего в форме драматического
монолога - философских размышлений, воспоминаний, исповеди. В драматическом
монологе автор ставит себе задачу раскрыть внутренний мир героя в момент
духовного кризиса или большого эмоционального напряжения. Поэт стремится при
этом воспроизвести во всей их непосредственности противоречивые душевные
побуждения своих действующих лиц, передать мысли и чувства с мелочной
точностью деталей.
С этим связано и своеобразие языка Браунинга. Естественностью своих
интонаций, прямотой и живостью выражения чувств и мыслей его язык
приближается к разговорной речи. Однако стремление поэта воспроизвести
мельчайшие, мимолетные оттенки душевных движений со скрупулезной точностью,
ничего не упустив и не отбросив, приводит к загромождению его стиха сложными
синтаксическими конструкциями, часто идущими вразрез с общепринятыми нормами
английского языка, вводными предложениями, вносящими в повествование
оговорки, уточнения, отступления, поправки, намеки на обстоятельства, о
которых читатели могут только догадываться. Поэтический язык Браунинга
сложен и труден для понимания. Современники рассказывали, что, прочитав
"Сорделло", читатель оставался в недоумении, о чем же, собственно, шла речь:
о человеке, о городе или о книге!
Браунинг был заведомо поэтом для немногих, для особо подготовленных,
образованных читателей. В этом отношении его поэзия также решительно
расходилась с традициями революционного романтизма в английской литературе:
и Байрон и Шелли, как бы ни сложна была их поэзия и по богатству содержания
и по своеобразию формы, обращались к широким демократическим читательским
кругам. Произведения Браунинга были столь трудны для понимания, что в 1881
г., еще при его жизни, было основано специальное "Браунннговское общество",
в официальные задачи которого входило комментирование и истолкование текстов
поэта.
Браунинг, однако, не был сторонником "чистого" искусства. Поэзия, как и
наука, призвана, по его мнению, играть важную роль в прогрессе человечества.
Представление Браунинга относительно общественного значения искусства с
большой силой выразилось в его стихотворении "Потерянный лидер" - гневной
отповеди, с которой Браунинг обратился к престарелому Вордсворту, когда тот
после смерти Саути (1843) согласился занять предложенную ему должность
придворного поэта-лауреата королевы Виктории. От имени борцов за свободу
Браунинг противопоставляет Вордсворту, польстившемуся "на пригоршню серебра,
на ленту, которую можно прицепить к сюртуку", славную когорту
демократических поэтов Англии: Шекспира, Мильтона, Бернса, Шелли: "Они и
посейчас, в могилах, стоят на страже нашего дела. Он один бежал из
авангарда, от свободных людей, он один ушел в тыл, к рабам!"
Но прогрессивная общественная роль искусства трактуется Браунингом
крайне отвлеченно. Особым преимуществом искусства он объявляет в своей поэме
"Кольцо и книга" то, что оно "может передавать правду косвенно". Не прямое
социальное обличение, а облагораживающее моральное воздействие, "спасение
души" - такова, по его определению, высшая цель искусства.
Одним из наиболее характерных произведений Браунинга, где
последовательно выразились его моральные и эстетические взгляды, была драма
"Пиппа проходит" (Pippa Passes, 1841). Это, собственно, четыре одноактные
пьесы, объединенные общим замыслом и фигурой героини, скромной итальянской
работницы Пиппы. Образ Пиппы приобретает у Браунинга символический смысл,
становясь воплощением стихийного доброго начала, которое спасительно
воздействует на поступки и помыслы окружающих. Раз в году, в свой
единственный праздничный день, Пиппа, напевая, бродит по городу, и ее
бесхитростные песенки, полные наивного благочестия и детски
непосредственного радостного восприятия жизни, пробуждают лучшие чувства
людей, распутывают самые сложные жизненные конфликты. При этом победа добра
над злом происходит в драме Браунинга крайне легко и схематично. Под
влиянием благодетельного пения Пиппы, Оттима и Сибальд раскаиваются в
страсти, приведшей их к преступлению; архиепископ, запутавшийся в
собственных кознях и лжи, не совершает бесчестного, но выгодного для него
поступка; художник Джулио примиряется с женой, которую хотел покинуть, узнав
о ее темном прошлом; революционер Луиджи, преодолевая свои колебания и
сомнения, принимает твердое решение убить тирана, угнетателя страны.
Две строчки одной из песенок Пиппы получили известность, как
классическое выражение либерально-оптимистического отношения Браунинга к
действительности: "Бог на небе, все прекрасно на земле". Это изречение верно
формулирует общие тенденции, особенно характерные для раннего творчества
поэта. Браунинг не отрицает наличия в жизни трагических конфликтов и даже
часто изображает их. Но он ищет их по преимуществу в прошлом, особенно
охотно обращаясь к эпохе Возрождения, как эпохе освобождения личности от пут
феодальной зависимости и средневекового религиозного мировоззрения. В
современной ему политической жизни Браунинг сочувственно отзывается на
буржуазно-демократические движения, поддерживает борьбу против рабовладения
в США и в особенности борьбу за национальное объединение Италии. Но проблемы
социального и экономического неравенства и буржуазной эксплуатации оставляют
его равнодушным; бедствия, надежды и освободительные устремления трудового
народа Англии в период чартизма, столь ярко запечатленные в английском
реалистическом романе этого времени, не отразились в его творчестве. Призыв
Эрнеста Джонса, поэта-чартиста, который в одной из своих статей убеждал музу
Браунинга покинуть дворцы и обратиться к народу, остался без ответа.
Эта отчужденность Браунинга от общественной борьбы в Англии
усугублялась тем, что значительную часть своей жизни он провел вдали от
родины, главным образом - в Италии. Впервые он посетил Италию еще в 1838 г.,
а в 1846 г., женившись на поэтессе Элизабет Баррет, надолго переселился в
Италию. Это решение было вызвано не только заботой о слабом здоровье жены.
Эстетические и культурно-исторические интересы Браунинга-поэта все теснее
связывали его с Италией как классической страной Возрождения.
Эти интересы Браунинга выражены в стихотворных сборниках "Драматическая
лирика" (Dramatic Lyrics, 1842), "Драматические поэмы" (Dramatic Romances,
1845), "Мужчины и женщины" (Men and Women, 1855), "Dramatis Personae"
{"Действующие лица".} (1864).
В поисках героических тем и образов Браунинг обращается к Ренессансу
как заре буржуазного гуманизма. Его привлекают образы цельных, богато
одаренных людей того времени - мыслителей, художников, ученых, - которые в
недрах феодального общества, под властью церкви, закладывали основы
гуманистического искусства и светской науки. Темой многих его драматических
монологов и поэм является творческий подвиг этих первых гуманистов
Возрождения. Живописец Андреа дель Сарто с нежностью говорит о своем
искусстве; скорбя о том, что не всем пожертвовал ему при жизни, он мечтает,
чтобы и в загробном мире можно было бы создавать фрески, столь же
прекрасные, как творения Рафаэля, Леонардо да Винчи и Микельанджело.
Герой другого драматического монолога фра Филиппе Липпи - также
художник. Страстно влюбленный в природу, в человека, он стремится
запечатлеть в своих картинах окружающую его жизнь, хочет, чтобы все полюбили
ее, как и он, и поняли, как она прекрасна.
В стихотворении "Похороны грамматика" возникает образ
ученого-гуманиста, филолога, целиком посвятившего себя науке. Написанное в
форме торжественного погребального гимна, который поют ученики, несущие в
могилу тело учителя, стихотворение это славит могущество человеческого
разума и воли, устремленных к знанию. Но вместе с тем в нем с особой силой
проявляется и индивидуалистическая ограниченность буржуазного гуманизма
Браунинга. Сквозь все стихотворение проходит утверждаемая поэтом мысль о
несовместимости высокой науки с низменной жизнью. Великий ученый-гуманист
потому якобы и достиг вершин знания, что гордо и бесповоротно отказался от
участия в жизни обычных людей.
Он говорил: "Что мне в жизни мирской?
Нужен мой дар ей?
Текст этот я изучил, но за мной
Весь комментарий..."
(Перевод М. Гутнера)
Этот мотив отрешенности от жизни определяет всю символическую картину
похорон: ученики несут его гроб вверх по крутой горной тропинке, чтобы и
после смерти тело его покоилось высоко над "низиной", где расположились
людские селения.
Браунинг не идеализирует средневековье, как это делал Теннисон. Он
показывает в неприкрашенном виде хищных и жадных прелатов церкви,
властолюбивых жестоких феодальных князей; предоставляя им слово, он
заставляет их обнажать перед читателями нечистые, темные страсти, владеющие
их душой. Так, в монологе "Покойная герцогиня" овдовевший герцог постепенно
признается в том, что убил свою красавицу-жену, заподозрив ее в любви к
художнику, написавшему ее портрет. В монологе "Епископ заказывает себе
гробницу в церкви святой Пракседы" в бессвязных словах умирающего епископа
раскрывается надменная, алчная и завистливая натура себялюбца, призывающего
на помощь искусство ваятелей, чеканщиков и каменотесов, чтобы и могила его
служила посрамлению его врагов.
Страшная картина средневекового религиозного изуверства создана
Браунингом в "Трагедии об еретике", носящей подзаголовок "Средневековая
интермедия". Посредством литературной стилизации (к которой он вообще
нередко прибегает в своей поэзии) Браунинг стремится воспроизвести во всей
ее непосредственности суеверную психологию фанатиков-церковников, убежденных
в том, что они совершают благое дело, сжигая богопротивного еретика.
В своей защите свободы мысли от религиозных суеверий и предрассудков
Браунинг, однако, крайне непоследователен. По своим философским взглядам он
близок к позитивизму. В его поэзии немалое место занимает сопоставление
различных точек зрения на религию. Браунинг дает слово и дикарю Калибану,
создающему божество по своему образу и подобию ("Калибан о Сетебосе"), и
ученому еврейскому богослову ("Рабби Бен-Езра"), и английскому католическому
епископу Блогрэму ("Защита епископа Блогрэма"), и шарлатану-спириту ("Медиум
Сладж"). Но, отвергая религиозный фанатизм, он осуждает и скептицизм в
вопросах религии. Религиозно-морализаторский дух его поэзии в этом отношении
вполне согласуется с общим характером буржуазной культуры викторианской
Англии.
"Кольцо и "книга" (The Ring and the Book, 1868-1869) - самое крупное
поэтическое произведение Браунинга. Сюжет этой обширной драматической поэмы
основан на материалах уголовного процесса, состоявшегося в Риме в конце XVII
века. Это - история авантюриста графа Гвидо Франческини, который надеялся
поправить свод дела выгодной женитьбой, а когда его надежды не оправдались,
убил и свою семнадцатилетнюю жену и ее приемных родителей, рассчитывая
получить их состояние. Браунинга, однако, как обычно, интересует не столько
объективный ход событий, сколько открываемые ими возможности
психологического анализа. Символический смысл заглавия поэмы тесно связан с
эстетическими взглядами Браунинга на ограниченную роль вымысла в
художественном творчестве. Слово "книга" в этом заглавии означает те факты,
которые поэт почерпнул из своего первоисточника - отчета о процессе графа
Гвидо. "Кольцо" же - это эмблема такого произведения искусства, автор
которого посредством поэтического вымысла сживается с этими фактами и
творчески преображает их: так, согласно метафоре Браунинга, ювелир, делая
кольцо, добавляет к золоту необходимые примеси, чтобы можно было придать
драгоценному металлу жизни нужную форму. В горниле творчества примеси
исчезают, оставляя кольцо из чистого золота.
Печальная судьба юной Помпилии, принесенной в жертву своекорыстным
расчетам, убитой через две недели после рождения сына, раскрывается на более
широком, чем обычно у Браунинга, историческом фоне. Закон и церковь повинны
в гибели этой прекрасной молодой жизни не меньше, чем Гвидо и его пособники.
Брак Гвидо и Помпилии - ничем не прикрытая торговая сделка. "Браки на этой
земле, - говорит Браунинг, - это обмен золота, положения, происхождения,
власти на молодость и красоту". Все попытки Помпилии отстоять свою свободу,
сохранить свое человеческое достоинство в ненавистном для нее браке
пресекаются блюстителями веры и законности. Тщетно обращается она за помощью
к архиепископу, градоправителю, к своему духовнику: они ее же обвиняют в
строптивости и клевете и твердят ей о ее христианском долге быть покорной
мужу.
Ситуация "Кольца и книги", таким образом, отчасти напоминает ситуацию
"Ченчи" Шелли. Но если Шелли воспользовался ею для пламенного обличения
общественного деспотизма и лицемерия и придал героические черты облику
Беатриче, решившейся отомстить за попранную справедливость, то Браунинг
ставит себе иные задачи. Его занимает сама по себе причудливая игра
противоположных, взаимосталкивающихся и взаимопереплетающихся интересов и
страстей, которая привела к гибели Помпилию и которая продолжается и во
время судебного разбирательства. Отсюда - статический, созерцательный
характер всего произведения, несмотря на драматичность использованных в нем
фактов. Построение "Кольца и книги" чрезвычайно громоздко: поэма состоит из
12 книг - введения и эпилога от лица автора и десяти драматических
монологов. На протяжении 21 тысячи стихов Браунинг снова и снова
возвращается к одним и тем же, уже известным читателям, событиям, освещая их
с точки зрения различных лиц. Читателям предлагается мнение "одной половины
Рима", которая принимает сторону графа Гвидо, "другой половины Рима",
которая сочувствует Помпилии, показания свидетелей, предсмертная исповедь
самой Помпилии, речи адвокатов, намеренно уклоняющихся от истины... Гвидо
выступает дважды. Сперва он искусно защищается и лицемерно выдает свои слова
за правду. Осужденный на казнь, в последние минуты перед смертью он в
бессильной ярости сбрасывает маску и признается в своем преступлении.
Морально-психологический подход к истории, отсутствие широких
исторических обобщений, характерные для "Кольца и книги", сближают это
произведение Браунинга с историческим романом Джордж Элиот "Ромола", где
частные нравственные душевные конфликты также оттесняли на задний план
изображение народной жизни.
В "Кольце и книге", как и в других поздних произведениях, Браунинг уже
не обнаруживает той благочестиво-оптимистической уверенности в стихийной
победе добрых начал, которая выразилась в свое время в драме "Пиппа
проходит". Но он продолжает оставаться поборником либерализма. "Я живу,
люблю, тружусь свободно и не оспариваю права моих ближних на свободу", -
благодушно заявляет он в стихотворении "Почему я либерал" (1885).
Отрешенность творчества Браунинга от важнейших новых общественных
проблем, выдвинутых борьбою "двух наций" в тогдашней Англии, так же как и
чрезвычайная затрудненность его поэтической формы, знаменовали собой начало
кризиса английской буржуазной поэзии. Но заслугой Браунинга было то, что в
период усиленного распространения новомодных эстетских, мистических и
иррационалистических течений он сумел сохранить верность гуманистическим
идеям.
«История английской литературы».
#28
Отправлено 05 апреля 2009 - 00:03
#29
Отправлено 05 апреля 2009 - 00:15
Цитата
The Girl in White
retold by
S. E. Schlosser
He was sulking a little, standing at the sidelines while all the other men danced with their pretty partners. His girl had not come to the dance that night. Her mother was ill, and so his girl had remained at her side. A fine pious act, he thought sourly, but it left him at loose ends.
His friend, Ernesto, came up to him between sets with a cold drink and some words of encouragement. "After all, Anita is not the only girl in the world," Ernesto said. "There are many pretty girls here tonight. Dance with one of them."
Bolstered by his friend's words, he started looking around the dance hall. His eye fell upon a beautiful young girl standing wistfully at the edge of the floor beside the door to the terrace. She was dressed in an old-fashioned white gown and her skin was pale as the moon. Her dark eyes watched the dance hungrily from her position behind a tall fern, and he felt his heart beat faster. Such a lovely woman should be dancing!
He made his way through the bustling crowd and bowed to the girl in white. She looked startled by his addresses, as if she had not expected anyone to notice her that night. But she readily assented to dance with him, and he proudly led her out onto the floor for the next set, all thoughts of Anita gone from his mind.
Ernesto and some of his other friends gave him odd looks as he danced with the girl in white. A few times, the man opposite them bumped right into them as if he had not seen his partner at all. He was furious and wanted to stop the dance and make the man apologize to the girl in white, but she just laughed and hushed him.
When the dance was over, he hurried to get his fair partner a drink. Ernesto approached him at the refreshment table. "When I told you to dance, I meant with a partner," his friend teased him.
"I was dancing with a partner," he replied, irritated by his friends remark. "The loveliest girl in all of Mexico!"
"You've had too much to drink, my friend," Ernesto replied. "You were dancing by yourself out there!"
He glared at his friend and turned away without answering him. Making his way back to the girl in white, he handed her a glass and asked her to stroll with him along the terrace. The night was beautiful, the sky full of stars, and he stared at the girl in white with his heart in his eyes as they stood looking out over the beautiful scene.
The girl in white turned to him with a sigh and said: "Thank you for the dance, Senor. It has been a very long time since I had such pleasure."
"Let us dance again, then," he said infatuatedly. But she shook her head.
"I must leave now," she said, catching up her skirts with one hand and drifting toward the stairs at the side of the terrace.
"Please don't go," he pleaded, following her.
"I must," she said, turning to look at him. Her eyes softened when she saw the look on his face. "Come with me?" she invited, holding out a pale hand.
His heart pounded rapidly at the thought. More than anything in the world, he wanted to go with this lovely girl. And then his mind registered the fact that he could see the stone wall of the terrace through the girl's hand. His desire melted away before the shock of that realization. He looked into her face again, and realized that she was fading away before his eyes.
At the look of horror on his face, the girl gave a sad laugh and dropped her hand, which was nearly transparent now.
"Goodbye," she said, her body becoming thin and misty. "Goodbye."
Then she was gone.
He gave a shout of terror when he realized he had been dancing with a ghost. He bolted from the premises, leaving his horse behind, and ran all the way home.
When Ernesto came the next day to bring him his horse, he told his friend the whole story. Ernesto whistled in awe. "You saw the spirit of Consuela, my friend," he said. "She was the daughter of one of the local aristocracy who lived in this region more than a hundred years ago. She died of consumption the night before her first ball and they say her spirit sometimes attends the local dances, hoping to claim one of the dances that she missed."
He shuddered at the thought of his dance with the ghost. "I will not be visiting that dance hall again," he told Ernesto. "From now on, all my dances will be with Anita!"
And he kept his word.
retold by
S. E. Schlosser
He was sulking a little, standing at the sidelines while all the other men danced with their pretty partners. His girl had not come to the dance that night. Her mother was ill, and so his girl had remained at her side. A fine pious act, he thought sourly, but it left him at loose ends.
His friend, Ernesto, came up to him between sets with a cold drink and some words of encouragement. "After all, Anita is not the only girl in the world," Ernesto said. "There are many pretty girls here tonight. Dance with one of them."
Bolstered by his friend's words, he started looking around the dance hall. His eye fell upon a beautiful young girl standing wistfully at the edge of the floor beside the door to the terrace. She was dressed in an old-fashioned white gown and her skin was pale as the moon. Her dark eyes watched the dance hungrily from her position behind a tall fern, and he felt his heart beat faster. Such a lovely woman should be dancing!
He made his way through the bustling crowd and bowed to the girl in white. She looked startled by his addresses, as if she had not expected anyone to notice her that night. But she readily assented to dance with him, and he proudly led her out onto the floor for the next set, all thoughts of Anita gone from his mind.
Ernesto and some of his other friends gave him odd looks as he danced with the girl in white. A few times, the man opposite them bumped right into them as if he had not seen his partner at all. He was furious and wanted to stop the dance and make the man apologize to the girl in white, but she just laughed and hushed him.
When the dance was over, he hurried to get his fair partner a drink. Ernesto approached him at the refreshment table. "When I told you to dance, I meant with a partner," his friend teased him.
"I was dancing with a partner," he replied, irritated by his friends remark. "The loveliest girl in all of Mexico!"
"You've had too much to drink, my friend," Ernesto replied. "You were dancing by yourself out there!"
He glared at his friend and turned away without answering him. Making his way back to the girl in white, he handed her a glass and asked her to stroll with him along the terrace. The night was beautiful, the sky full of stars, and he stared at the girl in white with his heart in his eyes as they stood looking out over the beautiful scene.
The girl in white turned to him with a sigh and said: "Thank you for the dance, Senor. It has been a very long time since I had such pleasure."
"Let us dance again, then," he said infatuatedly. But she shook her head.
"I must leave now," she said, catching up her skirts with one hand and drifting toward the stairs at the side of the terrace.
"Please don't go," he pleaded, following her.
"I must," she said, turning to look at him. Her eyes softened when she saw the look on his face. "Come with me?" she invited, holding out a pale hand.
His heart pounded rapidly at the thought. More than anything in the world, he wanted to go with this lovely girl. And then his mind registered the fact that he could see the stone wall of the terrace through the girl's hand. His desire melted away before the shock of that realization. He looked into her face again, and realized that she was fading away before his eyes.
At the look of horror on his face, the girl gave a sad laugh and dropped her hand, which was nearly transparent now.
"Goodbye," she said, her body becoming thin and misty. "Goodbye."
Then she was gone.
He gave a shout of terror when he realized he had been dancing with a ghost. He bolted from the premises, leaving his horse behind, and ran all the way home.
When Ernesto came the next day to bring him his horse, he told his friend the whole story. Ernesto whistled in awe. "You saw the spirit of Consuela, my friend," he said. "She was the daughter of one of the local aristocracy who lived in this region more than a hundred years ago. She died of consumption the night before her first ball and they say her spirit sometimes attends the local dances, hoping to claim one of the dances that she missed."
He shuddered at the thought of his dance with the ghost. "I will not be visiting that dance hall again," he told Ernesto. "From now on, all my dances will be with Anita!"
And he kept his word.
Небольшой рассказ о привидении.
#30
Отправлено 05 апреля 2009 - 00:17
 wsir1963 (4.4.2009, 23:18) писал:
wsir1963 (4.4.2009, 23:18) писал:
http://robert-myname....com/17011.html
Лена,что значит не получилось! Тащи его сюда,пусть будет и не детское.
Лена,что значит не получилось! Тащи его сюда,пусть будет и не детское.
Только не ругайтесь,
 wsir1963 (10.9.2008, 8:26) писал:
wsir1963 (10.9.2008, 8:26) писал:
Kindness
I love little pussy,
Her coat is so warm,
And if I don't hurt her
She'll do me no harm.
So I'll not pull her tail,
Nor drive her away,
But pussy and I
Very gently will play.
She shall sit by my side,
And I'll give her some food;
And pussy will love me
Because I am good.
I love little pussy,
Her coat is so warm,
And if I don't hurt her
She'll do me no harm.
So I'll not pull her tail,
Nor drive her away,
But pussy and I
Very gently will play.
She shall sit by my side,
And I'll give her some food;
And pussy will love me
Because I am good.
Как же я люблю мою маленькую киску,
С шёрсткой её теплой так здорово играть...
И если я не буду больно её тискать,
То и она меня не будет обижать.
Так что я не стану её за хвостик дёргать,
и прогонять её тоже не буду я, конечно.
Мы с моей киской, мягкое с твёрдым,
Будем в разные игры играть нежно-нежно.
Она подле меня устроится уютно,
И дам я ей мой самый лакомый кусочек,
И киска будет любить меня... каждое утро,
Потому что я добрый и милый очень.
вот такая вот вышла.. стих-от-варенья.. и по-другому ну никак
и название опять не подходит..
Oportet vivere
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
|
©2007-
batumionline.net Использование материалов сайта допускается только при наличии гиперссылки на сайт Реклама на batumionline.net Раздел технической поддержки пользователей | Обратная связь |
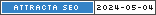
|




















